 Гриб Андрей Анатольевич (доктор
физико-математических наук, профессор, академик РАЕН): Ну, я человек
совершенно другого мира, я физик-теоретик, встретился я с Борисом
Вениаминовичем впервые, наверное, в году 1967. Наталья Петровна
Бехтерева тогда организовывала в ВИЭМе некий семинар, её тогда очень
интересовали взгляды Нильса Бора на сознание, на биологию, квантовую
физику и всё это, ну и она меня попросила об этом рассказать. И вот
потом, после этого семинара ко мне подошел человек, который мне, тогда
показалось, был моего же возраста (это был Борис Вениаминович), который
как-то сразу всё понял. И вот он стал со мной говорить. Я очень
удивился. Но потом выяснилось, что он ходил тогда уже на матмех. Они с
Калининым написали тогда совместную работу по математической статистике,
но, вроде как-то он тогда не доучился на матмехе.
Гриб Андрей Анатольевич (доктор
физико-математических наук, профессор, академик РАЕН): Ну, я человек
совершенно другого мира, я физик-теоретик, встретился я с Борисом
Вениаминовичем впервые, наверное, в году 1967. Наталья Петровна
Бехтерева тогда организовывала в ВИЭМе некий семинар, её тогда очень
интересовали взгляды Нильса Бора на сознание, на биологию, квантовую
физику и всё это, ну и она меня попросила об этом рассказать. И вот
потом, после этого семинара ко мне подошел человек, который мне, тогда
показалось, был моего же возраста (это был Борис Вениаминович), который
как-то сразу всё понял. И вот он стал со мной говорить. Я очень
удивился. Но потом выяснилось, что он ходил тогда уже на матмех. Они с
Калининым написали тогда совместную работу по математической статистике,
но, вроде как-то он тогда не доучился на матмехе.А потом уже встреча с ним была при совершенно особых обстоятельствах. Дело в том, что в Ленинграде тогда произошло некое чудо: а именно, появился салон. Ну, все знают, что такое салон в Париже. Такие салоны были в Петербурге. В наше советское время появился салон. Этот салон был у них дома. Что такое салон? Это значит, туда приходят интеллигентные люди, и вот кто-то перед ними выступает, кто-то, являющийся, естественно, специалистом в своей области. Например, это была Ирма Кудрова, которая рассказывала о Марине Цветаевой, которая в семидесятые годы была под запретом. И вот вам читала стихи Цветаевой, а после этого на рояле профессиональная пианистка исполняла вам Скрябина. А потом был ужин, и вот за этим ужином, конечно, я думаю, первое слово было Бориса Вениаминовича, потому что, как я уже говорил еще на похоронах, по-видимому, это самый иронический ум, который мне когда-либо встречался. Его замечания, его вопросы, они сразу возбуждали некую дискуссию, которая могла больше часа длиться после этого ужина. Мы очень поздно расходились. И вот такого рода салон существовал двадцать лет (!) в Ленинграде.
Конечно, можно сейчас сказать, что это была особенность советского времени, когда всё было закрыто. Это остров свободы вот в этом тоталитарном мире. Но, надо сказать, что такого рода явления вообще были типичны для тех лет, шестидесятые - семидесятые годы. В других местах, допустим, тоже проходили какие-то собрания, Бродский выступал, но, обычно потом всех сажали как-то, вот как-то так происходило. Не всех, но многих из тех. Здесь вот этого не происходило никогда, вот что удивительно. И я думаю, здесь была какая-то очень тонкая игра. И, конечно, Борис Вениаминович был блестящим психологом, потому что там не было людей, которые так прямо предлагали свергать советскую власть. Единственное, наверное, исключение была Таня Горичева. Да и та, так сказать, не предлагала свергать советскую власть, она просто как-то демонстративно крестилась всё время, это тоже же были годы антирелигиозной пропаганды, вот и всё. А так всё было как-то удивительно гармонично, и это происходило почти двадцать лет, такие встречи.
Удивительные вещи, там выступал, допустим, Эйслер, человек, который когда-то воевал в Испании, в тридцатые годы, потом был посажен, долго сидел тут у нас в лагерях. И вот этот человек, типичный пассионарий, как его можно назвать на языке Льва Николаевича Гумилёва, тем не менее, блестяще читал тогда Марину Цветаеву, которую он знал и о которой он рассказывал, он с ней лично встречался. Вот такие вот вещи происходили в советское время, в Советском союзе. И вот это чудо было. И Борис Вениаминович был, конечно, вместе с Татьяной Борисовной, его женой, организатором этих удивительных встреч.
Теперь, конечно, конечно, его ум…. Мне не казалось, что он как-то регулярно изучал, скажем, философскую литературу, особенно религиозную философскую литературу, но вопросы он всегда задавал очень острые, связанные с этим. И естественно, конечно всегда его интересовал главный перед ним вопрос, это вопрос: «А можно ли что-то научное говорить о загробной жизни?». Допустим, такая постановка вопроса. Не фантазии какие-то там, а что-то, что связано с наукой. И вот потом мы стали обсуждать всё это в связи с теорией относительности Эйнштейна. Известно, что когда у Эйнштейна умер его друг Бессо, с которым он был дружен в течение более пятидесяти лет, то Эйнштейн написал его сыну: «Ну, что же, он ушёл от нас раньше, но мы же знаем, мы – физики-теоретики, что прошлое существует так же, как настоящее и будущее; это только иллюзия, что оно не существует». Борис Вениаминович, кстати, знал об этой идее, и вот кажется даже он высказал такую мысль: а что если в последний момент жизни возникает вспышка памяти, когда вы всю свою жизнь видите и вечно в этом видении находитесь и вот это и есть загробная жизнь. Причем вечность не в смысле длительности, это другое качество времени, но и другое бытие нашей же жизни. Это именно бытие нашей жизни. Вот такую мысль мы с ним обсуждали и, конечно, собирались обсуждать незадолго перед его смертью. По-моему, даже это когда приходил Юра за два дня. Вот эта мысль его очень интересовала.
Надо сказать, что эта мысль обсуждалась когда-то и с Натальей Петровной Бехтеревой, и там главный вопрос состоит в том: а что тогда такое память? Является ли память просто считыванием того, что у нас в голове записано в мозгу, или это действительно зрение того прошлого, которое есть, которое смутное, когда человек живой и становится ясным совершенно ярким, когда человек умирает. Так это или нет? Естественно, ответить на этот вопрос никто не может. Но ставить вопросы, на которые ответить никто не может, но, тем не менее, которые не являются чистейшей фантазией или каким-то бредом, это была особенность мысли Бориса Вениаминовича. Уж, конечно, никакие обычные ответы его не интересовали. На этом я, наверное, закончу разговор о Борисе Вениаминовиче. Спасибо.
 Оганесян Наталья Юрьевна (кандидат психологических наук, танцевальный терапевт): Говоря о Борисе Вениаминовиче, с полным правом, думаю, могу сказать, что это мой учитель. Я тоже несколько из другого мира: мира соединения искусства психологии и психотерапии. Когда я пришла обсчитывать диссертацию по танцевальной терапии, казалось бы, это вот совершенно другая область, которую Борис Вениаминович не должен бы был знать или понимать. Но он так включился, и я сейчас вспоминаю, как же он работал со мной и как он работал потом уже, когда я уже защитила диссертацию. Здесь фотография была. И я понимала, что мне надо будет вести уже учеников, и я еще на первых порах не знала, как я это буду делать, и как я буду делать эти дипломы. И я его просила: «Борис Вениаминович, можно я посижу и посмотрю, как Вы работаете с аспирантами, диссертантами?». Он мне разрешил, и вот что я могу сказать, вот как я могу свои чувства и ощущения от его работы передать. Здесь присутствует моя ученица, которой он диплом тоже делал на первых порах. Он просил рассказать сначала о том, что я делаю. «Вот, что Вы делаете? Как выглядит Ваша работа? Какие этапы работы?». И, таким образом, он сформировал глубокую психотерапевтическую эмпатию, он просто входил в эгрегор человека, который ему рассказывал. Это, отчасти, где-то работа супервизора. И вот когда он уже вошел, он уже находился в этом канале рабочем диссертанта, он уже включал, я так думаю, свое аналитическое мышление, свой математический анализ, и сразу же он начинал выстраивать этапы. Так, как он выстроил танцевально-терапевтическую сессию, никто ни до него, ни сейчас не сделал. Я могу сейчас смело сказать, что нет в Европе такой выстроенности, как есть у нас. Не только у меня, но и у учеников. Ну, это дар Божий, другого слова сказать нельзя. Методом, методологической базой и тем, что этот метод развивается, – обязаны ему и я и мои все ученики, которые шли за мной, сейчас их много. И, самое интересное, что он присутствовал на защитах первого выпуска учеников танцевально-терапевтической линии здесь в институте Герцена и в Иматоне. Есть на сайте его фотографии. И вот сидит Мария Владимировна, аспирантка кафедры психологии человека института Герцена, которой он выстраивал диплом и по танцевальной терапии, и диплом на психфаке здесь. Пожалуйста, Маша.
Оганесян Наталья Юрьевна (кандидат психологических наук, танцевальный терапевт): Говоря о Борисе Вениаминовиче, с полным правом, думаю, могу сказать, что это мой учитель. Я тоже несколько из другого мира: мира соединения искусства психологии и психотерапии. Когда я пришла обсчитывать диссертацию по танцевальной терапии, казалось бы, это вот совершенно другая область, которую Борис Вениаминович не должен бы был знать или понимать. Но он так включился, и я сейчас вспоминаю, как же он работал со мной и как он работал потом уже, когда я уже защитила диссертацию. Здесь фотография была. И я понимала, что мне надо будет вести уже учеников, и я еще на первых порах не знала, как я это буду делать, и как я буду делать эти дипломы. И я его просила: «Борис Вениаминович, можно я посижу и посмотрю, как Вы работаете с аспирантами, диссертантами?». Он мне разрешил, и вот что я могу сказать, вот как я могу свои чувства и ощущения от его работы передать. Здесь присутствует моя ученица, которой он диплом тоже делал на первых порах. Он просил рассказать сначала о том, что я делаю. «Вот, что Вы делаете? Как выглядит Ваша работа? Какие этапы работы?». И, таким образом, он сформировал глубокую психотерапевтическую эмпатию, он просто входил в эгрегор человека, который ему рассказывал. Это, отчасти, где-то работа супервизора. И вот когда он уже вошел, он уже находился в этом канале рабочем диссертанта, он уже включал, я так думаю, свое аналитическое мышление, свой математический анализ, и сразу же он начинал выстраивать этапы. Так, как он выстроил танцевально-терапевтическую сессию, никто ни до него, ни сейчас не сделал. Я могу сейчас смело сказать, что нет в Европе такой выстроенности, как есть у нас. Не только у меня, но и у учеников. Ну, это дар Божий, другого слова сказать нельзя. Методом, методологической базой и тем, что этот метод развивается, – обязаны ему и я и мои все ученики, которые шли за мной, сейчас их много. И, самое интересное, что он присутствовал на защитах первого выпуска учеников танцевально-терапевтической линии здесь в институте Герцена и в Иматоне. Есть на сайте его фотографии. И вот сидит Мария Владимировна, аспирантка кафедры психологии человека института Герцена, которой он выстраивал диплом и по танцевальной терапии, и диплом на психфаке здесь. Пожалуйста, Маша. Елисеева Мария Владимировна (психолог, танцевальный терапевт, аспирант кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена): Спасибо, что дали слово. Просто это неожиданно, и в общем-то даже как-то не очень удобно говорить, потому что, ну, действительно вы сказали всё, что можно было сказать, все, что нужно было сказать. И мне остается, так скажем, передать только свои эмоции и какие-то личностные такие моменты при встрече с Борисом Вениаминовичем. Всё, что, знаете, было такое непонятное, неизвестное, и, с точки зрения Бориса Вениаминовича странное, не научно доказанное, он очень тактично называл эфемерными планами. Но, при всём при этом он говорил о том, что, пусть это будет эфемерно, но в тоже время это нужно обязательно проверить. И, вы знаете, я не очень долго знала Бориса Вениаминовича, но он дал очень интересные советы, не только по поводу тех двух работ, которые я успешно защитила. Например, при первой же встрече он мне посоветовал посмотреть фильмы Андрея Тарковского. Сначала я не очень поняла, как могут быть связаны темы моих дипломных работ, танцевально-двигательная терапия и фильмы Тарковского, но, в общем-то я пересмотрела их все, и при следующей встрече это было темой обсуждения – не моя дипломная работа, а именно фильмы Андрея Тарковского. В этом тоже, наверное, был определенный какой-то смысл для моего личностного развития. Спасибо большое, что меня выслушали. И мне очень жаль, что мне не удастся больше посоветоваться с Борисом Вениаминовичем по поводу моей диссертационной работы.
Елисеева Мария Владимировна (психолог, танцевальный терапевт, аспирант кафедры психологии человека РГПУ им. А.И. Герцена): Спасибо, что дали слово. Просто это неожиданно, и в общем-то даже как-то не очень удобно говорить, потому что, ну, действительно вы сказали всё, что можно было сказать, все, что нужно было сказать. И мне остается, так скажем, передать только свои эмоции и какие-то личностные такие моменты при встрече с Борисом Вениаминовичем. Всё, что, знаете, было такое непонятное, неизвестное, и, с точки зрения Бориса Вениаминовича странное, не научно доказанное, он очень тактично называл эфемерными планами. Но, при всём при этом он говорил о том, что, пусть это будет эфемерно, но в тоже время это нужно обязательно проверить. И, вы знаете, я не очень долго знала Бориса Вениаминовича, но он дал очень интересные советы, не только по поводу тех двух работ, которые я успешно защитила. Например, при первой же встрече он мне посоветовал посмотреть фильмы Андрея Тарковского. Сначала я не очень поняла, как могут быть связаны темы моих дипломных работ, танцевально-двигательная терапия и фильмы Тарковского, но, в общем-то я пересмотрела их все, и при следующей встрече это было темой обсуждения – не моя дипломная работа, а именно фильмы Андрея Тарковского. В этом тоже, наверное, был определенный какой-то смысл для моего личностного развития. Спасибо большое, что меня выслушали. И мне очень жаль, что мне не удастся больше посоветоваться с Борисом Вениаминовичем по поводу моей диссертационной работы.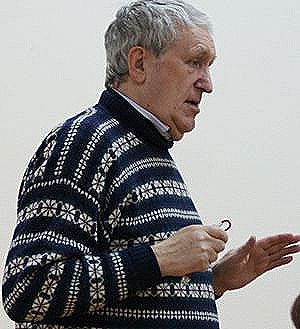 Л.И. Вассерман: Я хочу маленькую реплику сказать. Вот вы видите, какая это глыба, сколько однозначно положительных эмоций, восхищенных мнений о Борисе Вениаминовиче, но они разные. Отметьте, то, что говорит Виктор Викторович, который очень много лет общался и работал бок о бок с Борисом Вениаминовичем, и то, что говорит Юрий Аркадьевич, это противоположные же вещи. Это некий феномен, который может появиться только у очень большого, сложного человека, с очень сложными, глубокими способностями к мышлению, к пониманию окружающего мира и самого себя в этом мире.
Л.И. Вассерман: Я хочу маленькую реплику сказать. Вот вы видите, какая это глыба, сколько однозначно положительных эмоций, восхищенных мнений о Борисе Вениаминовиче, но они разные. Отметьте, то, что говорит Виктор Викторович, который очень много лет общался и работал бок о бок с Борисом Вениаминовичем, и то, что говорит Юрий Аркадьевич, это противоположные же вещи. Это некий феномен, который может появиться только у очень большого, сложного человека, с очень сложными, глубокими способностями к мышлению, к пониманию окружающего мира и самого себя в этом мире.У него на протяжении многих лет действительно были трансформации личностные. Вот Виктор Викторович говорил о периоде увлечения фрейдизмом. Много лет проработав с Борисом Дмитриевичем Карвасарским (это мало кто знает, между прочим), Борис Вениаминович в конце, в последнее десятилетие разочаровался в психотерапии вообще. И когда-то, после очень неудачной диссертации, обсуждения диссертации, он сказал в сердцах, что это спекуляция на личностных слабостях. Он это говорил, возможно, не о психотерапии вообще, как области знаний, вот. Он категорически не принимал идею, скажем, Бориса Дмитриевича и его соратников, о психотерапии как научной специальности. Он не принимал категорически идеи сделать учёный совет по психотерапии, ввести психотерапию в перечень научных специальностей. Он считал, что психотерапия это ремесло, ремесло тоже нужно, хорошее ремесло – это удел умных, порядочных и серьезных знающих людей, но это не наука.
Вот такая трансформация, то есть это не ригидные какие-то установки, пронесенные через всю жизнь. У него были симпатии/антипатии по отношению к той культуре, о которой упоминал Юрий Аркадьевич. Да, он очень увлекался поэтами «Серебряного века». От него я впервые узнал, что, оказывается, родственник Фёдора Измайловича Случевского, известного нашего психиатра (у нас работала его дочка Соня, сейчас она там в Сангиге), – это один из поэтов «Серебряного века» – Константин Случевский. И действительно, когда я нашёл сборник поэтов «Серебряного века», я нашёл маленький стишок Константина Случевского и Соне на 8 марта подарил букетик гиацинтов с этим стихотворением. Она сказал: «Откуда Вы знаете?», а я ей говорю: «А мне подсказал Борис Вениаминович». Вот.
То есть я хочу сказать, что вот людям увлеченным, грамотным в своем деле, профессионалам далеко не всем дано вот такое широкое восприятие, так сказать, культуры в разных её пластах: от этики, философии и истории религии до современности.
Всё, что Юрий Аркадьевич сказал по поводу его взглядов на демократию и демократов, я это комментировать не буду, возможно, что это были беседы двух друзей. Недаром Юра подчеркнул, что это, как говорится, тет-а-тет. И у нас были неоднократные диспуты по поводу многих беспорядков, цинизма, продажности, всего этого. Он это категорически не принимал.
Я хочу еще одно воспоминание. Мало кто знает, что у нас неоднократно бывал Лев Николаевич Гумилев. Он дружил с Инессой Николаевной. Инесса Николаевна была человек на особицу. Она была большим специалистом и большой занудой. И Льву Николаевичу с ней было говорить трудновато, хотя она была начитана, знала его теорию, идеи, а вот с Борисом Вениаминовичем они мгновенно нашли общий язык. Очень жалко, что прошло время, изменились обстоятельства и Лев Николаевич перестал бывать у нас в Лаборатории. Интереснейший человек. То есть Борис Вениаминович таких людей привлекал, не будучи, по большому счету, ни психологом, ни педагогом. Но он был и тем и другим, он был культурнейшим, интереснейшим человеком, с оригинальным мышлением
Это характеризует только действительно таких Больших людей. Т.е. Людей с большой буквы. Вот такой маленький штрих
А.Н. Алехин: Уважаемые коллеги, тут Михаил Алексеевич просит слово из Челябинска. Пока технические средства позволяют, давайте мы это сделаем.
Беребин Михаил Алексеевич (кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой клинической психологии Южно-Уральского государственного университета): Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья! Безусловно, это счастливый случай для всех, кто мог встречаться с Борисом Вениаминовичем. Нам не удавалось часто встречаться, но то, что мы видели, то, что мы помним, это глубочайший ум и очень высокая душевность. Я вспоминаю... Очень мало людей, которые могли так слушать, как Борис Вениаминович. И эти вот глаза, которые тебя слушают, и такая возможность услышать такого человека. Я до сих пор вспоминаю с трепетным волнением эти встречи на диванчике, который стоял в Лаборатории, какие там разворачивались дискуссии, насколько это было важно. Я думаю, что это была очень большая удача, что старшее поколение нашей в общем-то молодой кафедры и немножко среднее поколение застали тот период в жизни Лаборатории, в жизни, наверное, всей медицинской психологии, который связан с Борисом Вениаминовичем.
Я хотел бы сказать еще одну такую вещь. Немножко издалека, с Урала, можно сказать, что от Лаборатории, от всех, кто там был, есть, исходил какой-то высочайший дух, какая-то особенная аура. И я хочу сказать, что настолько, насколько нужно, мне бы хотелось, чтобы эта аура, может быть, через нас, может быть, через следующее поколение, передавалась следующим генерациям психологов. И слава Богу, и очень хорошо, что сегодня состоялось такое событие в Санкт-Петербурге, и мы имеем возможность вспомнить и сказать несколько слов о Борисе Вениаминовиче.
А.Н. Алехин: Уважаемые коллеги, ну вот, может быть, кто-то еще хотел сказать, пожалуйста.
 Чулкова Валентина Алексеевна (кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии экстремальных и кризисных ситуаций СПбГУ): Я, наверное, скажу еще об одной стороне жизни Бориса Вениаминовича. Последние годы он очень интересовался онкопсихологией. Надо сказать, я с ним познакомилась, когда еще была студенткой, но особенно близко мы стали с ним знакомы, когда я работала над своей диссертацией, а в последние годы, еще более близкими наши были отношения именно в связи с онкопсихологией. Это было до болезни Бориса Вениаминовича, это было в процессе, когда он заболел, но это никак не влияло, просто это ему было интересно.
Чулкова Валентина Алексеевна (кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии экстремальных и кризисных ситуаций СПбГУ): Я, наверное, скажу еще об одной стороне жизни Бориса Вениаминовича. Последние годы он очень интересовался онкопсихологией. Надо сказать, я с ним познакомилась, когда еще была студенткой, но особенно близко мы стали с ним знакомы, когда я работала над своей диссертацией, а в последние годы, еще более близкими наши были отношения именно в связи с онкопсихологией. Это было до болезни Бориса Вениаминовича, это было в процессе, когда он заболел, но это никак не влияло, просто это ему было интересно.Надо сказать, что буквально этой осенью он сказал такие вещи, что онкопсихология должна развиваться, потому что в онкопсихологии есть все, что может быть только в психологии: это и возрастная психология, и социальная психология, и семейная психология, т.е. все виды психологии, они сошлись как бы в одной точке, в онкопсихологии, в трагическом моменте для жизни человека. В университете на кафедре психологии кризисных и экстремальных ситуаций 2 года назад возник наш семинар, семинар по психологическим вопросам онкологии. И Борис Вениаминович этот семинар называл нашим семинаром. Во-первых, он сам принимал участие в семинаре и привлекал других людей к участию в семинаре и всегда обсуждал эти вопросы. И я думаю, что он очень поддерживал всех тех, кто был участником семинара. В нашем семинаре участвуют как специалисты, работающие в онкологии, психологи, так и студенты. И даже студенты, которые приходили со своими работами, с дипломными или с курсовыми, они все были интересны Борису Вениаминовичу. Он всех их поддерживал, он всеми ими интересовался. Он говорил: "Посмотрите, какие люди приходят на этот семинар, посмотрите, какие интересные люди». Когда у нас был семинар, посвященный двухлетию (наш семинар, он еще молодой), и когда мы говорили о том, что же помогает психологам работать в онкологии, практически каждый сказал, что именно контакт с Борисом Вениаминовичем дает поддержку профессиональную, дает поддержку психологическую. Мы все счастливы, что были знакомы и мы прикоснулись к жизни Бориса Вениаминовича, и мы счастливы тем, что мы знали его и знаем его. Спасибо.
А.Н. Алехин: Друзья мои, коллеги, всегда трудно говорить о человеке такого масштаба -просто не хватает слов. Это был именно семинар Бориса Вениаминовича. Я хочу пригласить всех в пятую аудиторию, чтобы вспомнить и уже в более спокойной обстановке поговорить о Борисе Вениаминовиче.



Перейти в начало стенограммы>>>

